ВОЙНА и МИР: 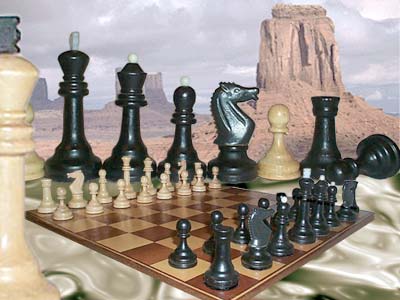 Политические циклы развития западного мира тесно связаны с периодами нахождения у власти американских президентов. С каждым новым президентом США мир немного меняет свой характер. Так, например, президентство Уильяма Клинтона (William Clinton) оптимистично связывалось с курсом на глобализацию, что породило на родине империализма огромный финансовый пузырь, который привел к целой серии трагических экономических кризисов, правда, на пространстве от Южной Азии и России до Аргентины. Президентство Джорджа Буша было тесно связано с ‘войной против террора’. Назначивший сам себя ‘президентом войны’, Буш приучил мир к возвращению пыток и секретных тюрем. После семи лет его президентства международный авторитет Соединенных Штатов серьезно пострадал и значительно ограничил свободу действий американской внешней политики.
Политические циклы развития западного мира тесно связаны с периодами нахождения у власти американских президентов. С каждым новым президентом США мир немного меняет свой характер. Так, например, президентство Уильяма Клинтона (William Clinton) оптимистично связывалось с курсом на глобализацию, что породило на родине империализма огромный финансовый пузырь, который привел к целой серии трагических экономических кризисов, правда, на пространстве от Южной Азии и России до Аргентины. Президентство Джорджа Буша было тесно связано с ‘войной против террора’. Назначивший сам себя ‘президентом войны’, Буш приучил мир к возвращению пыток и секретных тюрем. После семи лет его президентства международный авторитет Соединенных Штатов серьезно пострадал и значительно ограничил свободу действий американской внешней политики.
Теперь Соединенные Штаты вновь готовятся к смене правительства. Напрашивается вопрос, какое крыло политической элиты страны теперь придет к власти, и с чем миру на этот раз придется считаться. Все указывает на то, что самые лучшие перспективы у Барака Обамы. И тем важнее задаться вопросом, как будут выглядеть разрекламированные им ‘изменения’.
Обаму поддерживают мультимиллиардер Джордж Сорос (George Soros) и бывший советник по вопросам безопасности при президенте Джеймсе Картере Збигнев Бжезинский. Бжезинский одновременно выступает и в роле советника Обамы по вопросам внешней политики. Будучи ‘серым кардиналом’ среди американских геополитических стратегов он воплощает в себе мнения и интересы всех крыльев американской элиты. А с учетом его положения среди интеллектуалов влияние Бжезинского можно оценить как очень высокое.
К тому же дочь Збигнева Бжезинского, телеведущая Мика Бжезинский также поддерживает Обаму, а ее брат Марк Бжезинский входит в число советников Обамы. Поэтому многое говорит в пользу того, что в период президентства Обамы геополитические представления ‘фракции Бжезинского’ займут лидирующие позиции.
Збигнев Бжезинский наряду с Генри Киссинджером считается ведущим стратегом американской внешней политики XX века. В своей вышедшей летом 2007 года книге ‘Второй шанс’ (Second Chance) он подвергает фундаментальной критике правительства Буша-старшего, Клинтона и Буша-младшего. По его мнению, после распада СССР они недостаточно использовали шансы для создания системы прочного американского господства. Поэтому он предлагает ограничить однополярную политику и сделать усиленную ставку на кооперацию и поиск договоренностей с Европой и Китаем. Следует также начать переговоры с Сирией, Ираном и Венесуэлой — об этом уже объявил Барак Обама. Но одновременно нужно изолировать и, пожалуй, даже дестабилизировать Россию.
Существенное разногласие между Бжезинским и неоконсерваторами состоит в их отношении к исламу и Израилю. Бжезинский выступает за конструктивное решение израильско-палестинского конфликта. Ему, как геополитику классической школы, в отличие от Буша-младшего чужды религиозные мотивы. К тому же он недавно выступил в роли критика политики, в основу которой положена борьба культур. Однако эти разногласия не могут скрыть того, что Бжезинский солидарен с консерваторами в отношении целей американского господства.
Если неоконсерваторы верят в то, что гегемонии США можно добиться благодаря прямому военному контролю над нефтяными запасами на Ближнем Востоке, то в период президентства Обамы, находящегося под влиянием Бжезинского, центр тяжести американской внешней политики мог бы перенестись на зарождающихся конкурентов — Россию и Китай. Первостепенная цель политики Обамы под влиянием Бжезинского состояла бы в том, чтобы воспрепятствовать дальнейшему углублению союзнических отношений между этими двумя государствами, как это происходит сейчас в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Цель выглядела бы следующим образом: с помощью специальных предложений вывести Китай из ШОС и изолировать Россию. […]
‘Второй шанс’
Изданная в 1997 году книга ‘Великая шахматная доска’ (The Grand Chessboard), главное произведения Бжезинского, подробно знакомит с долгосрочными интересами американской силовой политики. В книге содержится аналитически разработанный план геополитической установки Соединенных Штатов на 30-летний период.
В немецком переводе книга называется ‘Единственная мировая держава’ (Die einzige Weltmacht). Это название обозначает первый принцип, а именно объявленное желание быть ‘единственной’ и, как называет Бжезинский, даже ‘последней’ мировой державой. Но решающим является второй посыл, в соответствии с которым Евразия ‘представляет собой шахматную доску, на которой продолжается борьба за глобальное господство’ (стр. 57).
В основе этого второго принципа лежит оценка того, что держава, получившая господство в Евразии, тем самым получает господство над всем остальным миром. ‘Эта огромная, причудливых очертаний евразийская шахматная доска, простирающаяся от Лиссабона до Владивостока, является ареной глобальной игры’ (стр. 54), причем ‘доминирование на всем Евразийском континенте уже сегодня является предпосылкой для глобального господствующего положения’ (стр. 64). И происходит это лишь потому, что Евразия, бесспорно, является самым большим континентом, на котором проживает 75% населения мира, и на котором располагаются 3/4 всех мировых энергетических запасов. […]
Бжезинский приходит […] к заключению, что первоочередная цель американской внешней политики должна состоять в том, чтобы ‘ни одно государство или группа государств не обладали потенциалом, необходимым для того, чтобы изгнать Соединенные Штаты из Евразии или даже в значительной степени снизить их решающую роль в качестве мирового арбитра’ (стр. 283). Это означает — успешно отсрочить ‘опасность внезапного подъема новой силы’ (стр. 304). США преследуют цель ‘сохранить господствующее положение Америки, по крайней мере, на период жизни одного поколения, но предпочтительнее на еще больший срок’. Они должны ‘не допустить восхождение соперника к власти’ (стр. 306).
Эти высказывания спустя десять лет с момента появления книги и провала правительства Буша звучат очень даже сомнительно. Однако в своей самой последней книге Бжезинский видит ‘второй шанс’ для реализации усилий по достижению прочного господства Америки. Это особенно заметно проявляется в той роли, которую Бжезинский — как и Обама — тогда и сегодня обещает Европе. Ориентированная на трансатлантизм Европа выполняет для Соединенных Штатов функцию плацдарма на Евразийском континенте (стр. 91). Согласно этой логике расширение ЕС на Восток неизбежно влечет за собой и расширение НАТО. Что, со своей стороны, (такова идея) должно расширить американское влияние дальше на Среднюю Азию и гарантировать преимущество перед конкурентами: ‘Главную геостратегическую цель Америки в Европе можно легко резюмировать: благодаря заслуживающему доверия трансатлантическому партнерству плацдарм США на Евразийском континенте укрепится так, что увеличивающаяся в размерах Европа может стать пригодным трамплином, с которого на Евразию можно будет распространять международный порядок и сотрудничество’ (стр. 129).
Однако Бжезинский еще в 1997 году осознал, что при успешной реализации этого плана позиция США в качестве мировой сверхдержавы может быть закреплена лишь на непродолжительный период. В другой части своей книги он предупредительно пишет: ‘Америка в качестве ведущей мировой державы имеет лишь непродолжительный исторический шанс. Относительный мир, царящий сейчас на планете, может стать недолговечным’ (стр. 303). Поэтому в качестве долгосрочной цели обретения власти он определяет возможность ‘создания долгосрочного рамочного механизма глобального геополитического сотрудничества’ (стр. 305). Он говорит в этой связи также и о ‘трансевразийской системе безопасности’ (стр. 297), которая за пределами расширяющейся в направлении Средней Азии НАТО предусматривает кооперацию с Россией, Китаем и Японией. Европе при этом отводилась бы роль ‘опорного столба большой евразийской структуры безопасности и сотрудничества, находящейся под патронажем США’ (стр. 91).
Но что же конкретно имеется в виду под этой трансевразийской системой безопасности? Напрямую об этом можно было бы говорить с учетом позиций других стратегов и государственных мужей. В действительности интересный свет проливается на цели Бжезинского, если сравнить их с высказываниями Президента России Владимира Путина, сделанными во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности 10 февраля 2007 года. Путин выступает против геополитики, которой после окончания ‘холодной войны’ отдают предпочтение США. По его мнению, она направлена на создание ‘однополярного мира’. ‘Как бы не украшали этот термин (однополярный мир), в конечном итоге он означает на практике только одно — это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решений. Это мир одного хозяина, одного суверена’.
И далее: ‘то, что сегодня происходит в мире, является следствием попыток привнести в международные отношения именно эту концепцию, концепцию однополярного мира… В настоящее время мы переживаем почти безграничное, чрезмерное использование силы — военной силы — в международных отношений, силы, которая ввергает мир в пропасть непрерывных конфликтов… Найти политическое решение также невозможно… Государство, и при этом я, естественно, говорю в первую очередь о Соединенных Штатах — перешло свои национальные границы во всех отношениях’.
По мнению России, долгосрочная стратегия американской внешней политики ясна именно с геополитической точки зрения: как было предложено Бжезинским, США продолжают распространять свое влияние на азиатском континенте, так как любое расширение Европейского Союза на Восток с учетом данных обстоятельств одновременно расширяет и американское влияние. При помощи комбинации из расширения ЕС на Восток и экспансии НАТО интегрированными в западную зону влияния должны стать многие из бывших республик Советского Союза, например, Грузия, Азербайджан, Украина и Узбекистан.
Решающим фактором для этой интеграции является то, что страна открывается для зарубежного капитала и приспосабливается к западным правовым нормам. Если это происходит, то тогда западные концерны могут гарантировать для себя доступ к запасам сырья и через СМИ получить влияние на общественность страны.
Центральное значение при этом отводится региону вокруг Каспийского моря. Поскольку этот регион располагает вторыми по величине запасами нефти и газа и к тому же имеет особое военно-стратегическое значение, господствующее положение Запада в этом регионе существенно усилило бы позиции США на евразийском континенте. Совместно с контролем союзников США государств ОПЕК: Кувейта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара — и с завоеванными государствами Ираком и Афганистаном — этот регион придал бы необходимый авторитет господству США над Средней Азией, чтобы в конечном итоге интегрировать в спроектированную США надгосударственную структуру безопасности всю Евразию, включая Китай и Россию.
Исходящее от Европы расширение НАТО на Восток и начатые правительством Буша на Юге Евразии (Ирак, Афганистан) военные интервенции вместе образуют своеобразный клин, с помощью которого США продвигаются в сердце евразийской ‘массы стран’. Если Соединенным Штатам действительно удастся добиться поставленной цели в Евразии, то установленный порядок, учитывая размер и значение Евразийского континента, был бы распространен на весь оставшийся мир. Латинская Америка, Африка, Австралия и все островные страны, в соответствии с планом Бжезинского, были бы вынуждены присоединиться к подобному порядку.
И тогда США стали бы не только ‘единственной’, но — как формулирует Бжезинский — также и ‘последней настоящей супердержавой’ (с. 307). […]
Политика ограничения
С того момента как Бжезинский сформулировал эту цель, США пережили существенную потерю геополической власти. В своей недавней книге ‘Второй шанс’ Бжезинский открыто признает, что план прямой военной оккупации некоторых стран Ближнего Востока, как ее представляли себе неоконсерваторы, провалился. Однако Бжезинский не считает это поражение таким уж масштабным, чтобы принципиально отказаться от сформулированных им планов господства США в Евразии. Провал прямого распространения влияния на Юге Евразии с помощью военной силы означает для него лишь то, что теперь больший приоритет получает проводимое Европой расширение НАТО на Восток. Но это означает и массированное вторжение в сферу влияния России. Таким образом, в перекрестье американской геополитики теперь после Ирана попадает и Россия.
Следовательно, однополярный мир, о котором год назад на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности предупреждал Путин, больше не является химерой, а реальным геополитическим проектом США. Этот проект со всей очевидностью проявляется в том, что, проводя экспансию НАТО на Восток, Соединенные Штаты не планируют приобщать Россию и Китай к этому процессу и, соответственно, не воспринимают всерьез их интересы в сфере безопасности.
В последние годы, прежде всего, после 11 сентября 2001 года на наших глазах происходит существенный рост силовых действий в международных отношениях. Особенно это касается США, которые не придают большого значения международным договоренностям и формированию консенсуса. Из-за односторонних действий США значительно выхолащивалось международное право, а такая структура как ООН была ослаблена. Ее место заняли так называемые миротворческие миссии под руководством США, ЕС или НАТО, например, на территории бывшей Югославии. При этом, как само собой разумеющееся, была создана предпосылка для того, чтобы западный оборонительный союз или западные государства могли представлять все международное сообщество.
Из-за односторонних действий США увеличивается число конфликтов, при урегулировании которых используется сила. Достаточно только подумать об американской доктрине первого удара и ее применении во время войны в Ираке. Или об использовании урановых боеприпасов во время войн в Ираке и Афганистане, которые в этих зонах боевых действий — средства массовой информации во всем мире об этом умолчали — во много раз увеличили число детей, рождающихся с серьезными патологиями. К тому же стоит назвать и запущенный процесс расширение НАТО на Восток до Каспийского моря, что неизбежно должно обеспокоить Россию.
Аналогично обстоят дела с ‘противоракетным щитом’, который размещается не только на территории Чехии и Польши, но также и в других граничащих с Россией регионах, и, наконец, форсированная США гонка вооружений в космосе, о стратегической логике которой еще можно будет поговорить.
Все это отчетливо показывает, что мировой порядок, к которому стремятся США, не будет основан на консенсусе и демократических договоренностях. Вместо этого политика правительства Буша, да и не только его правительства, позволяет распознать геополитические стратегии, нацеленные на получение преимущества в силе перед Европой, Китаем и Россией. Благодаря резкому увеличению расходов на вооружения после 11 сентября, которые уже давно побили все рекорды ‘холодной войны’, США пытаются добиться безоговорочного преимущества над своими конкурентами. Эта политика — весьма опасна, так как она вызывает вынужденную ответную реакцию, и уже сейчас привела в движение новый виток гонки вооружений. И пока неизвестно, может ли эта политика стать еще более опасной, если будущий президент Обама договорится с Китаем и Европой и одновременно продолжит подвергать Россию усиленной военной угрозе.
Особенно отчетливо политика ограничения России прослеживается на примере стратегической функции запланированного ‘противоракетного щита’, размещение которого в Польше и Чехии отнюдь не задумано для того, чтобы, как утверждают, перехватывать иранские ракеты. Во-первых, у Ирана вообще нет ракет радиусом действия от 5000 до 8000 километров. Во-вторых, разработка подобной категории управляемого оружия является долгосрочным процессом, так как с момента первого испытательного полета, который вряд ли мог бы быть проведен незаметно, до окончательного создания ракеты пройдут годы. И, в-третьих, если противоракетный щит действительно служит для отражения иранских ракет, то для этого куда больше подошло бы компромиссное предложение, сделанное Россией — создать совместную противоракетную систему в Азербайджане. Поскольку размещенные там противоракеты могли бы поразить и разрушить иранские ракеты уже в самом начале полета. […]
Тот факт, что США отвергли это компромиссное предложение, позволяет сделать лишь один единственный вывод: в первую очередь ‘противоракетный щит’ направлен не против Ирана, а против России. Это также подчеркивается тем, что другие базы ‘противоракетного щита’ будут размещены в приграничных с Россией регионах, например на Аляске. […]
Новая ‘холодная война’
Во время ‘холодной войны’ обе стороны постоянно заботились о том, чтобы обеспечить себе возможность нанесения превентивного ядерного удара. Это означает — каждая сторона в состоянии ‘обезглавить’ другую сторону в ходе внезапного нападения, и тем самым лишить ее способности нанести ответный удар. Например: или во время внезапного нападения вывести из строя все ядерное оружие противника и полностью парализовать его командные структуры, или настолько ограничить возможность нанесения ответного удара, чтобы его можно было успешно отразить.
Здесь в игру вступает ‘противоракетный щит’. Его стратегическое значение состоит в том, чтобы отражать ту самую пару десятков ракет, которыми после внезапного нападения США еще бы располагала Москва для нанесения ответного удара. Следовательно, ‘противоракетный щит’ является решающим фактором в усилиях по созданию возможности для нанесения превентивного ядерного удара против России. Правда, в начале было запланировано разместить в Польше только десять противоракет, но как только система будет создана, их число легко можно увеличить.
Статья, опубликованная в ведущем внешнеполитическом журнале Foreign Affairs в номере за апрель-май 2006 года, показывает, что при нынешних американских усилиях по наращиванию вооружений действительно играет роль стратегическое превосходство. Эссе носит название ‘Рост ядерного господства США’ (The rise of U.S. nuclear primacy). Оба автора, Кейр Либер (Keir A. Lieber) и Дэрил Пресс (Darley G. Press), задаются вопросом, в состоянии ли Китай или Россия отреагировать ответным ударом в случае превентивного ядерного нападения США. Чтобы выяснить, насколько за годы после окончания ‘холодной войны’ сместилось ядерное равновесие, авторы проводят компьютерную симуляцию превентивного нападения США на Россию. При этом они используют методы министерства обороны. Результат получился следующий: у России отсутствует полноценная система раннего предупреждения, и нападение, произведенное даже с подводных лодок в Тихом океане, вероятнее всего будет замечено только тогда, когда первые ракеты долетят до Москвы. Даже если превентивный удар не был бы нацелен на то, чтобы в первую очередь вывести из строя радарные установки и центры командования, то, по утверждению Либера и Пресса, США в результате первого удара были бы в состоянии уничтожить 99% российских ядерных ракет. Оставшийся один процент российского ядерного арсенала, которым Москва могла бы еще воспользоваться, по мнению авторов, был бы нейтрализован ‘противоракетным щитом’.
Эта статья наглядно показывает, в чем состоит истинная функция ‘противоракетного щита’: он должен гарантировать США способность вести ядерную войну, не становясь при этом уязвимыми для ответных ударов. Если эта способность когда-нибудь будет реализована, то ее можно использовать как геополитическое средство давления для продвижения национальных интересов. Таким образом, абсолютное превосходство в ядерной сфере могло бы компенсировать потерю влияния в экономической или финансово-политической областях.
Ядерное оружие сверхмалой мощности и оружие для уничтожения бункеров
Другие аспекты усилий США по подготовке к войне демонстрируют, что речь при этом идет о чем-то большем, нежели просто о пессимистических опасениях. В настоящее время США разрабатывают ядерное оружие с ограниченной силой взрыва. Эти так называемые Mini Nukes, со своей стороны, будут усовершенствованы для превращения в специальное оружие для уничтожения бункеров, так называемые Bunker Busters. Особенность этого оружия в том, что оно попадает в цель на очень высокой скорости и может на несколько метров ‘закапываться’ в землю, и таким образом в идеальном случае взрыв произойдет под землей.
Официально разработка этого ядерного оружия нового поколения была обоснована целью — только подобным образом в результате взрывной ударной волны можно разрушить находящиеся глубоко под землей бункерные сооружения, существующие, например, в Иране. Однако это обоснование — обоюдоострое. Во-первых, тем самым косвенно признается, что стоит всерьез воспринимать планы использования в возможной будущей войне против Ирана ядерного оружия (эти планы уже были раскрыты некоторыми журналистами) . Во-вторых, подобными бункерами располагает не только Иран, в подземных бункерах размещаются также командные структуры ракетных войск стратегического назначения России. […]
Почему вопреки победе капитализма сейчас начинается новый виток ‘холодной войны’
В книге ставится вопрос, почему вопреки победе капитализма сейчас начинается новый виток ‘холодной войны’. Или же, если следовать американским рецептам, старая ‘холодная война’ никогда не прекращалась?
Ответ на этот вопрос также можно найти у Бжезинского. В главном труде его жизни ‘Великая шахматная доска’ (The Grand Chessboard) первое, что бросается в глаза — это глава о России с ее полемическим названием. Бжезинский называет Россию ‘черной дырой’. После самороспуска Советского Союза Бжезинский едва ли признает за Россией право на собственные геополитические зоны влияния. Бжезинский упрекает Россию за ее усилия по сохранению своего влияния в некоторых бывших республиках Советского Союза с помощью экономической кооперации и военного сотрудничества, называя эти усилия лишь ‘желаемыми геостратегическими представлениями’ (стр. 142). Взамен он рисует образ будущей России, которая полностью отказалась от своих устремлений к самостоятельным геополитическим действиям, и которая в вопросах политики безопасности находится в полном подчинении у НАТО, а в вопросах экономической политики — у Международного валютного фонда (IWF) и Всемирного банка. Тот факт, что российские политики рассматривают Белоруссию, Украину и другие бывшие республики Советского Союза как естественную зону своих интересов, Бжезинский оценивает как желание ‘империалистической реставрации’ (стр. 168) или как ‘империалистическую пропаганду’ (стр. 288). Попытки России вернуть себе в будущем значимую позицию в вопросах геополитики он называет ‘бессмысленными усилиями’ (стр. 288). В одном из разделов своей книги Бжезинский даже предлагает расколоть Россию на три или даже четыре части: ‘России в непрочно закрепленных конфедеративных структурах, состоящей из европейской части, Сибирской республики и Дальневосточной республики, было бы куда легче развивать экономические отношения с Европой и с вновь возникшими государствами Средней Азии и Востока’ (стр. 288). Нескрываемая надменность, с которой Бжезинский в 1997 году высказывался о России, показывает, что для бывшего противника в ‘холодной войне’ он отводит роль колонии, стало быть, роль страны ‘третьего мира’.
Но с другой стороны, эти высказывания отражают и реальное положение России после целой серии экономических рецессий. Они напоминают о том, что в 1998 году обесцененный рубль достиг кульминационного пункта своего падения. На России висели большие долговые обязательства, и она, точно также как любая из стран ‘третьего мира’, должна была передать Международному валютному фонду и Всемирному банку часть своего политического и экономического суверенитета. Бжезинский закончил свою главу о России словами: ‘В действительность для России больше не существует дилеммы принятия геополитического выбора, поскольку, в сущности, речь идет о выживании’ (стр. 180).
‘Политика ослабления’
Между тем, время показало, что Россия — вопреки прогнозам американских геополитиков — выжила и в состоянии сохранить свои географические размеры. Россия больше не та ‘черная дыра’, где западные державы могут хозяйничать по собственному усмотрению.
Подобное развитие Бжезинский едва ли принимает в расчет в своей новой вышедшей в 2007 году книге ‘Второй шанс’ (Second Chance). Как и прежде он выступает за членство в НАТО Украины. И, как и прежде, он оценивает усилия России сохранить свое влияние на Украине как империализм. При этом Украина более 200 лет связана с Россией. Примерно 20% украинцев — русские, к тому же большое число украинских граждан — наполовину русские. И, наконец, в большей части страны говорят по-русски.
Однако политика Соединенных Штатов с самого начала была направлена на ослабление бывшего соперника. Как написала в своей недавно вышедшей книге Наоми Кляйн (Naomi Klein), смысл экономической ‘шоковой терапии’, навязанной России Западом, прежде всего, состоял в том, чтобы превратить страну в дешевого и зависимого от иностранного капитала экспортера сырья.
Особо отчетливо эта ‘политика ослабления’, проводимая Вашингтоном, отразилась в идее Бжезинского разделить страну на три или четыре части. Причину для подобной политики, наверное, нужно искать в геостратегическом положении России.
В книге ‘Великая шахматная доска’ есть карта, на которой Бжезинский показывает ‘евразийскую шахматную доску’. На ней евразийский континент разделен на четыре региона или, если придерживаться шахматных терминов, на четыре фигуры. Первая фигура на евразийской шахматной доске охватывает примерно территорию нынешнего Европейского Союза; вторая — Китай, включай Ближний и Средней Восток, а также части Средней Азии. Но бесспорно самая большая фигура, которую Бжезинский называет средним регионом, представляет Россию.
Похожее деление еще в начале XX века провел теоретик в вопросах геополитики Гарольд Макиндер (Harold Mackinder). […] Спустя почти сто лет Бжезинский — точно также как это делал Макиндер применительно к Британской империи — считает борьбу за власть и господство в Евразии судьбоносным вопросом для любой господствующей империи. Поскольку США, как и Британская империя, географически расположены в стороне от Евразии, Соединенные Штаты, не будучи евразийской нацией, должны реализовывать и защищать на континенте, который не является их домом, свои великодержавные позиции. Следовательно, США можно легче, чем другие государства, вытеснить из Евразии. Все это в совокупности вынуждает политику США к еще большему, а в некоторой степени даже к превентивному распространению своего влияния на азиатском и европейском континентах.
Таким образом, Россия в глазах американских геополитиков превращается решающую фигуру на евразийской шахматной доске. Преодоление идеологической конкуренции не означает, что также было преодолено и географическое соперничество. С точки зрения американских геополитиков, географически Россия находится в таком привилегированном положении, что, возможно, именно поэтому в расчет принимается необходимость превентивного ослабления России.
Борьба за Европу
США — самая большая держава вне Евразии. Если она хочет доминировать на евразийском континенте, то автоматически ее интересы будут вступать в противоречие с интересами России. При этом Россия слишком далека до того, чтобы быть сильнейшей державой на евразийском континенте. Экономически Россия никогда не сможет конкурировать с Китаем и Европой. Правда, благодаря своему географическому положению в центре евразийской ‘массы государств’ и своему сырьевому богатству, страна в долгосрочной перспективе будет в состоянии создавать механизмы для кооперации в Евразии.
Таким образом, углубленные экономические отношения между Россией и ЕС могли бы дать возможность Евросоюзу дополнить трансатлантическую ориентацию ориентацией континентальной. Это, со своей стороны, означало бы получение существенной независимости Европы от США. В пользу растущей ориентации ЕС на Восток говорит также то, что российские и европейские интересы в долгосрочной перспективе дополняют друг друга. В России большой спрос на европейские технологии, а Европе в средне- и долгосрочной перспективе вряд ли удастся гарантировать свое энергообеспечение без использования российских запасов.
Союз между Россией и Китаем, который уже вырисовывается в рамках Шанхайской организации сотрудничества, в долгосрочной перспективе также мог бы превратиться во второй мировой экономический центр в Азии, что создавало бы сложности для сохранения влияние США на Ближнем Востоке и в Средней Азии. […]
Географически обоснованные противоречия в интересах между Россией и США объясняют американскую политику в отношении России, которая проводится с момента падения Берлинской стены (ноябрь 1989 года). Новая ‘холодная война’ является продолжением ‘старой’, так как ‘старая’ в действительности никогда не прекращалась. ‘Холодная война’ продолжалась, поскольку США с падением Берлинской стены достигли только одной из двух своих геополитических целей. Первой целью без сомнения была победа капитализма над социализмом. Но вторая цель — она становится понятной только при рассмотрении нынешней политики США — никем не оспариваемое господствующее положение США в Евразии, чтобы перевести мир на постнационально-государственный порядок под американской гегемонией.
Новые конкуренты США
Но мечта о достижении американского всемогущества, которую Бжезинский, как само собой разумеющееся, в 1997 году считал вполне законной, в последние годы утратила реалистичность. Благодаря стремительному взлету не только России, но также Китая и Индии эта мечта становится все более призрачной. […] Спустя десять лет после выхода в свет внешнеполитического анализа Бжезинского, США столкнулись с истощением своих империалистических сил. Как страна может доминировать на чужом континенте, противопоставляя себя самоуверенной России и сильному Китаю? Наполеоновские войны и Вторая мировая война к тому же являются примерами того, что и в прошлом все попытке продвинуться с окраин Евразии в ее — российский — центр, постоянно проваливались. Как будут вести себя США, если и их ждет подобная участь?
Это зависит от того, идет ли речь в сформулированной Бжезинским в 1997 году целевой установке о таких целях, от которых можно отказаться в силу прагматичных соображений, если эти цели окажутся нереалистичными. Или же речь идет о целях, которые настолько сильно срослись с идентичностью страны, ее институтами и ее руководящей политической элитой, что их нельзя ограничить, и от них нельзя отказаться.
Если исходить из самого благоприятного сценария, то это будет означать, что американские геополитики признают, что сформулированные Бжезинским в 1997 году цели оказались недостижимыми, а европейские политики осознают, что новая интерпретация этих планов в форме трансатлантического сотрудничества в конечном итоге не в интересах европейцев.
В ближайшие пять лет американский доллар мог бы лишиться своего господствующего положения в качестве мировой валюты. Тем самым, США также потеряли бы значительную часть имеющихся у них преимуществ (прибыль от выпуска денежных знаков, что означает получаемые от государства или от эмиссионного банка доходы — прим. ред.), которые, в свою очередь, образуют финансовый базис для их непомерных расходов на вооружения. Многие военные базы вне территории США не могли бы больше финансироваться. Впредь США должны были бы разделить свои позиции мировой державы с евразийскими конкурентами такими, как Китай, Россия и Европа. Вполне возможно, что вследствие своей политики в этом регионе в прошлые годы, США совершенно потеряют свое влияние в Средней Азии. Тем абсурднее кажется, что именно сейчас, когда так называемые государства группы BRIC (Бразилия, Россия, Индия и Китай) генерируют огромный экономический рост, НАТО впервые требует для себя всеобъемлющую монополию на использование силы.
Соединенные Штаты, по всей видимости, больше не будут оказывать влияние на мир XXI века в той мере, как это было во второй половине прошлого столетия. В зависимости от той меры, в которой различные континенты и культурные общности должны будут прийти к единству для создания надрегионального рамочного механизма геополитического порядка будущего, возникнет также пространство для альтернативных проектов.
На место глобализации, которой сегодня дирижируют США, мог бы прийти процесс открытого, построенного на совмещении различных интересов диалога между примерно равными по силе державами. Вследствие этого, Запад в большей степени, чем это наблюдается сегодня, столкнулся бы с противоречиями, связанными с его собственным восприятием мира. Признанное сегодня повсюду представление о ‘хорошем Западе’ может существенно пошатнуться, если однажды предметом исторической памяти, даже судебного анализа, стали бы следующие темы: эксплуатация стран ‘третьего мира’, практика долгового империализма и поддержка диктаторов.
Новое довоенное время
Но, возможно, именно это является прогнозом на будущее, направленным в конечном итоге против плана Бжезинского — американского господства в Евразии. И, возможно, это относится не только к Бжезинскому, но и к широкому слою американской элиты. Кое-что говорит в пользу того, что вера в легитимное господство США так тесно переплетена с чувством идентичности американской элиты, что даже явный провал американской политики в период президентства Буша не приведет к новой ориентации. Об этом свидетельствует план достижения господства над Евразией при помощи углубленного американо-европейского сотрудничества, представленный Бжезинским в его недавно вышедшей книге ‘Второй шанс’ (Second Chance).
Это, кажется, является последней соломинкой, за которую США (вне зависимости от того, кто станет президентом Барак Обама или Джон Маккейн) могли бы ухватиться, отказываясь понимать, что невозможно добиться господства Запада над всей Евразией ни в политическом, ни в экономическом, ни даже в военном отношении.
Какой оборот примет истории, если американские и европейские геополитики, не обращая внимания на новое перераспределение силы, действительно будут придерживаться плана господства над Евразией? Это могло бы привести к столкновению интересов различных великих держав, в форме ли ‘холодной’ или ‘горячей’ войны.
Поскольку новая ‘холодная война’ протекала бы не в равновесии страха, а в военной и технологической асимметрии, гораздо выше становилась бы опасность возникновения ‘горячей’ войны. Таким образом, ‘хозяин’ противоракетного щита мог бы питать иллюзии, пребывая в обманчивом ощущении безопасности, а война могла бы разразиться вследствие дипломатического кризиса. И, наоборот, ‘побежденная’ сторона, которая не располагает противоракетным щитом, могла бы начать превентивную войну, поскольку она была бы уверена в том, что противоположная сторона и без того уже давно планирует это. Превентивное начало войны становилось бы асимметричным уравновешиванием отсутствия противоракетного щита.
Однако столкновение различных евразийских акторов могло бы произойти и в форме ‘замещающей’ войны. Местом подобного столкновения с большой вероятностью являлись бы богатые нефтью регионы Ближнего Востока и Средней Азии. Если бы вдруг начался энергетический кризис, вызванный нехваткой нефти, эти регионы могли бы окончательно попасть в перекрестье интересов всех держав. […]
Если между Ираком, Ираном, Афганистаном, Пакистаном и бывшими республиками Советского Союза геополитическая конкуренция в регионе стала бы решаться по аналогии с тем, как это было в прошлом веке на европейских Балканах, то вряд ли можно будет оценить человеческие потери. На евразийских Балканах между собой конкурируют гораздо больше государств, чем это было когда-то на европейских Балканах. Важнейшие акторы — Россия, США, Турция и Иран. В последние годы к тому же все более ощутимым становится влияние Китая, Индии, Пакистана и ЕС. В общей сложности, евразийские Балканы простираются по территории, на которой проживают несколько сотен миллионов людей. Американский историк Найал Фергюсон (Niall Ferguson) даже представлял тезис о том, что подобная трансграничная гражданская война на евразийских Балканах вероятна и в конечном итоге представляла бы собой новую мировую войну. Фергюсон приходит к выводу, что в случае конфликта ожидаемое число жертв может превысить масштабы Второй мировой войны. Публикация статьи Фергюсона в журнале Foreign Affairs, издаваемом Советом по международным отношениям (Council on Foreign Relations), показывает, что самые известные ‘мозговые центры’ США рассматривают трансграничную гражданскую войну на евразийских Балканах как возможный сценарий развития событий.
Если в конечном итоге роль миротворческой силы взяла бы на себя могущественная коалиция из различных государства (по аналогии с той, которую образовала НАТО в 1999 году в Югославии), то эта коалиция не только смогла бы определять новые границы Ближнего Востока и Средней Азии, но она была бы в состоянии установить прямой военный контроль над значительной частью мировых запасов нефти и газа. Подобная ‘миротворческая коалиция’ была бы подлинным победителем в этой войне, поскольку контроль над этими энергетическими резервами представляет собой значительный геополитический рычаг власти. А тому, кто этим рычагом обладает, будет принадлежать решающая роль гегемона в XXI столетии.
Решающая роль Европы
Однако ни США и ни Россия не будут принимать решения в том, какой будет история XXI века. Интересы обоих государств можно определить как слишком ясные и прагматичные, чтобы они всерьез могли бы выбрать между принципиально разными возможностями.
Россия, по всей вероятности, никогда не откажется от того, чтобы рассматривать бывшие республики Советского Союза как свою ‘естественную’ зону влияния. А США, в свою очередь, кажется, мало заинтересованы в том, чтобы без борьбы отказаться от своего господства на евразийском континенте. Поэтому возможность принятия решения в этой ‘большой игре’ (great game) должно быть в руках геополитических акторов, которые могли бы выигрывать от различных возможностей развития ситуации, и которые действительно стоят перед выбором. Единственная геополитическая сила, соответствующая этому описания, Европа.
В любом случае, представленная Бжезинским геополитическая концепция американского господства в XXI веке оказывается зависимой от кооперации с Европой. Без поддержки расширения НАТО на Восток со стороны Евросоюза план по созданию трансевразийской системы безопасности с доминирующей ролью США выглядит нереалистичным.
Таким образом, Европа для Соединенных Штатов является партнером, от которого нельзя отказаться. Однако интересы Европы по важнейшим позициям существенно отличаются от интересов США. Учитывая свое геополитическое положение, Европа может пойти как на атлантическую, так и на евразийскую кооперацию. При этом европейским интересам отвечала бы политика, ориентированная как на Запад, так и на Восток. Однако ориентацию Евросоюза на Восток Соединенные Штаты пытаются предотвратить не в последнюю очередь с помощью новой ‘холодной войны’, используя в качестве инструментов восточноевропейские государства. Если Брюсселю не удастся отговорить правительства Польши и Чехии от размещения на их территории американского радара и противоракет, то возникает вопрос, какой вообще политический смысл в существовании Европейского Союза, и какая у него политическая цель.
Геополитический анализ Бжезинского, правда, не лишен своей логики и обладает высокой силой убеждения. Однако это не может скрыть и его неверные посылы. Рассматривать Евразию в качестве шахматной доски на первый взгляд идея оригинальная. Но, как и многие другие претендующие на историческое могущество идеи, при внимательном рассмотрении идеи Бжезинского оказываются бездуховными и политически разрушительными. Мир XXI века тесно переплетен своей многополярностью и поэтому становится маленьким и хрупким. Силовые игры в геополитике, которые переносят на континенты логику шахматной игры, не соответствуют новой ситуации. Поэтому необходимо ограничить геополитическую логику, и даже поставить ее под сомнение.
Не доводя силовую игру в геополитике до самого худшего сценария, сегодня важно противопоставить геополитической логике такой способ мышления, который рассматривает цивилизацию как единое целое. Гораздо важнее вопроса, будет ли XXI век американским, европейским или китайским веком, является вопрос, на каких посылах мы собираемся строить жизнь рода человеческого. Соединенные Штаты в период президентства Буша уже озвучили свои предложения с помощью Гуантанамо и ‘зеленой зоны’ в Багдаде. Правда, осталось совсем немного подождать, чтобы понять, в состоянии ли США, когда президентом станет преемник Буша (без разницы, кто бы это ни был), пойти на цивилизационные корректировки своего курса. Но если США и дальше будут стремиться к глобальному господству, Европа должна отреагировать. В качестве неотъемлемого партнера США только ‘старый свет’ может отказать в поддержке американским планам. И в интересах цивилизации Европе следовало бы это сделать.
Источник: Хауке Ритц (Hauke Ritz), «Junge Welt», Германия
Адрес публикации: http://www.warandpeace.ru/ru/hots/view/27982/




 С.Куликов.
С.Куликов. 

