 Соединенные Штаты будут пытаться по максимуму снизить свою зависимость от поставок нефти из-за рубежа и постепенно переходить на экологически чистую энергию
Соединенные Штаты будут пытаться по максимуму снизить свою зависимость от поставок нефти из-за рубежа и постепенно переходить на экологически чистую энергию
Когда речь заходит о Соединенных Штатах, то принято считать, что эта страна является самым главным в мире импортером нефти и нефтепродуктов и что ее задача во внешнем мире — это максимально привязать к себе те страны, которые черное золото на рынки экспортируют, и полностью законсервировать свои имеющиеся в недрах нефтегазовые ресурсы.
Также почти всегда любые колебания цен на нефть в мировом масштабе неприменно приписывают США, особенно в том случае, если нефтепоставки напрямую влияют на принятие тех или иных международных решений, от которых зачастую зависят вопросы не только нефтяных ценовых котировок, но и сохранение мира и начала войны в самых удаленных подчас от американской территории районах нашей планеты.
В то же время не стоит забывать, что Соединенные Штаты всегда и во всем в своей внешней политике были движимы прежде всего максимальным прагматизмом и никогда не стремились растратить собственные природные ресурсы, если была возможность их получить на гораздо более выгодных и дешевых условиях, нежели устраивать и развивать добычу того или иного полезного ископаемого на собственной территории (причем это касается не только нефти и природного газа, но и многих других, важных для американской экономики полезных ископаемых).
Поэтому — то, что у Америки полным-полно есть своей собственной нефти — ни для кого не секрет. Просто США долгое время не считали актуальным вести в этом направлении какие-то глобальные и с длительной перспективой разработки, которые теоретически могли бы существенно снизить зависимость Соединенных Штатов от импорта энергоресурсов как от ближайших географических соседей (Канада, Мексика, Венесуэла, Тринидад и Тобаго), так и ввоз энергоносителей из стран дальнего для Америки зарубежья.
Разведка своих месторождений нефти — осознанная необходимость и веление непростой международной ситуации
Недавние события в Мексиканском заливе, когда из-за повреждения глубоководной скважины британской компании «BP» в воду вылилось несколько сотен тысяч баррелей нефти (и проблема загрязнения воды и побережья сразу в шести американских штатах до конца пока не решена), вновь поставили вопрос перед администрацией Белого дома: что же делать с собственной нефтяной промышленностью, какими основными направлениями ее «привязывать» к национальным интересам страны и стоит ли вообще США оставаться столь тесно завязаннной на импорте нефти, особенно в ситуации, когда ее мировая цена весьма нестабильна и в любой момент может вновь серьезно «тряхнуть» местные финансовые и энергетические рынки.
При этом огромные нефтяные пятна, которые с угрожающей скоростью расползались по Мексиканскому заливу, дали толчок сразу двум процессам. С одной стороны, в конгрессе США резко активизировались сторонники полного прекращения бурения нефти на шельфе Соединенных Штатов, а с другой — именно опора на свои собственные нефтяные ресурсы стала чуть ли не ключевым требованием тех в американских деловых и политических кругах, кто считает необходимым максимально снизить зависимость Америки от внешних источников получения энергоресурсов.
Сейчас же точка зрения тех, кто поддерживает идею более активного развития собственной нефтеиндустрии в Соединенных Штатах, находит все больше сторонников. И поэтому уже на данном этапе по прямому указанию Белого дома начато осуществление стратегии (которая вполне может стать долгосрочной) по разведке на нефть и газ на целом ряде участков континентального шельфа, находящегося у берегов Атлантического побережья Северной Америки.
Подобные работы по разведке потенциальных месторождений нефти и газа, как заявил президент США Обама, должны позволить стране перейти от экономики, работающей на привозной нефти, к экономике, которая будет базироваться на добыче и использовании ископаемых, добываемых на территории самих Соединенных Штатов. При этом, как считают американские эксперты в области энергетики, реальное влияние на экономику страны от такой стратегии можно будет оценить не ранее чем через пять-семь лет.
Однако уже сегодня многие аналитики в сфере энергетики в Европе и на Ближнем Востоке предсказывают, что если Соединенные Штаты действительно пойдут по пути увеличения добычи нефти на своих собственных месторождениях, то вся общая энергетическая картина в мире, включая распределение стран, традиционно поставляющих на мировые рынки нефть и тех, кто ее вынужден покупать, претерпит существенные изменения.
И в первую очередь от такого перераспределения «нефтяных сил» в мире пострадают именно те страны, которые на данном этапе поставляют нефть и нефтепродукты в Соединенные Штаты и поддерживают по этой причине с ними очень тесные экономические, финансовые и военные контакты (в первую очередь государства Ближнего Востока и Персидского залива).
Напомню, в этой связи, что еще осенью 2008 года в Соединенных Штатах по разрешению Белого дома был снят ранее действовавший жесткий запрет на бурение в американских территориальных водах и на шельфе как Атлантики, так и вдоль побережья Аляски на Тихом океане. Параллельно с этим планировалось развивать разного рода альтернативные варианты американской экономики для добычи и производства энергии. А за то время, пока подобная экономика была бы сформирована, предполагалось наращивать добычу нефти на территории самих США при снижении импорта черного золота из стран-традиционных поставщиков нефти в Америку.
По самым скромным подсчетам Соединенные Штаты ежегодно вкладывают в развитие альтернативных источников энергии примерно 24 млрд. долларов, причем большая часть этих немалых денег идет по правительственным грантам и проектам, то есть напрямую оплачивается из госказны. Одновременно с этим в Белом доме существует четкое убеждение в том, что именно альтернативные источники топлива непременно позволят США значительно снизить свою зависимость от внешних источников нефти, в том числе от стран, с которыми у Америки, мягко говоря, далеко не всегда находятся точки соприкосновения по целому ряду ключевых международных как экономических, так и политических вопросов.
Как бы Америка пока ни старалась стать нефтенезависимой, у нее это вряд ли получится
Надо отметить, что Соединенные Штаты не в первый раз пытаются стать нефтедобывающей страной и по крайней мере собственной добычей покрыть те потребности в черном золоте, которые пока покрываются за счет импорта. Так, на сегодняшний день недра США располагают всего 2 % всех запасов нефти в мире, но зато Америка потребляет более 22 % всей нефти, добываемой на нашей планете.
Также важно заметить, что 56 % всей потребляемой Соединенными Штатами нефти стране приходится импортировать главным образом из Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Нигерии, Анголы и Венесуэлы. В то же время в Белый дом уже переданы данные американских специалистов, которые предрекают как Атлантическому, так и Тихоокеанскому побережью США чуть ли не статус «топливного Эльдорадо», если там начнется промышленное бурение скважин.
К примеру, только Атлантический шельф США может содержать около 4 млрд. баррелей нефти плюс более 1 трлн. кубометров природного газа. НА Тихом океане цифры выглядят для Соединенных Штатов следующим образом — 10, 5 млрд. баррелей нефти и примерно 550 млрд. кубометров природного газа.
Есть в нынешней стратегии американского правительства, которую лично курирует и политически генерирует президент США Б. Обама, и весьма любопытный временной аспект. Дело в том, что новая энергетическая стратегия Соединенных Штатов охватывает период с 2012 до 2017 года, то есть изначально делается упор на то, что нынешний хозяин Белого дома будет переизбран на новый срок и сможет свои идеи в области энергетики довести до конечного и конкретно осязаемого результата.
Будет ли подобная деятельность реальна, если Обама следующие президентские выборы в США не выиграет, предсказать пока никто не берется. К тому же для начала серьезных работ по бурению шельфа требуется не только много денег (которыми нынче американская казна не особенно разбрасывается), но и, что самое главное в данной ситуации — поддержка такого процессса со стороны общественного мнения Америки.
А вот с этим ввиду продолжающегося кризиса с нефтяным загрязнением скважины компанией «BP» в Мексиканском заливе могут возникнуть серьезные накладки. Пока общественое мнение Соединенных Штатов крайне негативно относится к какому бы то ни было новому варианту бурения на шельфе страны и считает, что раз есть такая возможность — то лучше покупать нефть у арабов или у венесуэльцев, чем собственными руками загрязнять свои прибрежные воды с огромным риском для окружающей природы.
Понимают также в администрации Обамы, что полностью при любых вариантах расширения собственной добычи избавиться от импорта черного золота США не удастся. Но вот сократить — и существенно — такую зависимость американцам вполне под силу. И вопрос только в том, за чей счет они это произведут (то есть у кого станут меньше покупать, а кому оставят существующие ныне экспортные квоты). И здесь уже, скорее всего, на первый план выйдут чисто политические, а вовсе не обычные коммерческие расклады.
Куда денутся нефть и газ, которые могут перестать закупать Соединенные Штаты?
По самым оптимистичным прогнозам, морские месторождения что нефти, что природнго газа могут быть введены у побережья Соединенных Штатов в работу не ранее семи-восьми лет. Да и сами работы могут оказаться отнюдь не такими уж успешными по причине пока что непредсказуемости наличия ожидаемых объемов энергоресурсов. Ведь вполне может статься, что овчинка разработки месторождений не будет стоит выделки их промышленного освоения.
Зато с точки зрения зондирования рынков на предмет «проамериканской энергетической обеспокоенности» ситуация может сложиться уже в самом ближайшем будущем крайне любопытная. Прежде всего, практически гарантированно можно предсказать, что будет наблюдаться в течение нескольких месяцев (если, разумеется, в мире не произойдет каких-то глобально непредвиденных событий) падение цен на нефть.
Ведь главные поставщики нефти в Соединенные Штаты (и прежде всего Венесуэла, Нигерия, Ангола, плюс Саудовская Аравия) должны уже сейчас ломать голову над тем, куда потом девать вполне вероятно освобождаемые миллионы баррелей нефти, которые пока США у них закупают.
Стоимость нефти будет снижаться, для самих США продолжать ввозить ее будет с финансовой точки зрения выгодно, да и тех же поставщиков Вашингтон сможет надежно «фильтровать» на предмет политической и экономической лояльности. И волновать подобное должно уже сейчас всех тех, кто на нефтепоставках в Соединенные Штаты зарабатывает неплохие средства.
Нечто похожее ожидается и с поставками на американский рынок природного газа. Напомню, что в прошлом и начале нынешнего года США практически перестали импортировать природный газ, поскольку активно стали осваивать технологии разработки сланцевых месторождений газа.
Тем самым США довольно резко снижают свою зависимость от поставок природного газа из других стран (пожалуй, только с соседней Канадой и Катаром Соединенные Штаты будут сохранять полновесные газовые отношения в плане стабильных и долгосрочных закупок) — все же остальное будет сокращаться и тем самым автоматически повлияет на снижение мировых цен на природный газ — а соответственно, потеряют немалые деньги все те страны, которые газ экспортируют (те же Туркменистан, Россия, Алжир и другие).
Что также может с большой вероятностью произойти — тот газ, который на мировом рынке будет не нужен США, попросту перенаправится на европейские страны, которые пока закупают газ у России и через нее — у Туркменистана, а также Азербайджана. А это в свою очередь приведет к снижению цены на газ для европейских потребителей и, соответственно, ударит по экспортным доходам государств-газоэкспортеров.
Здесь также стоит принимать во внимание, что не снят с повестки дня и совместный план Соединенных Штатов и Ирака сделать эту страну крупнейшим экспортером нефти в мире к 2017-2020 годам (а американцы надеются контролировать добычу черного золота в Ираке к тому периоду, даже если американские войска и покинут Ирак в своей основной массе).
В результате может сложиться обстановка, в которой у одних стран будет полным-полно в наличии уже добытой нефти (не только Ирак, но и другие страны ОПЕК постоянно заявляют о том, что они готовы увеличить резервные мощности по добыче нефти на 12 млн. баррелей в сутки). А другие страны в этот момент абсолютно в этой добытой нефти не будут нуждаться. И тем самым будет происходить и затоваривание рынка, и значительное снижение мировых цен на нефть, что напрямую ударит по всем нефтеэкспортерам, включая Казахстан, Россию и Азербайждан.
Как бы то ни было, желание нынешнего руководства Соединенных Штатов значительно снизить зависимость страны от нефтеимпорта нужно принимать и серьезно, и заранее к его возможным последствиям готовиться. Ведь стремление сократить свою зависимость от внешних энергоисточников — не только личная и краткосрочная прихоть Б. Обамы и его ближайшей команды, но и насущная необходимость, которую осознают влиятельные деловые и политические круги страны. А значит США постепенно станут превращаться если не в ведущего мирового нефтеэкспортера, то как минимум в самодостаточную и бережно относящуюся к собственным энергоресурсам державу. Юрий Сигов, Вашингтон
Источник: Казахстан:. Деловая неделя
На фонтан известий о шатком положении США в Афганистане, запущенный группой WikiLeaks, последовал ряд самых разнообразных реакций, но лично я извлёк из этого нечто вполне определённое. Собственно, это старая добрая мудрость, которой с вами, наверное, поделились родители ещё до поступления в колледж: «Если ты играешь в покер и не знаешь, кто лох, то, скорее всего, лох — ты».

 Для Тьерри Мейсана дискуссия о существовании возможной военной ядерной программы у Ирана является всего лишь дымовой завесой. Великие державы прекратили передачу технологий Ирану с момента падения шаха, а Исламская Революция судила принцип атомной бомбы. Мнимые подозрения Запада являются просто уловкой, используемой для изоляции государства, которое ставит под вопрос военное и энергетическое доминирование ядерных держав и их право вето в Совете
Для Тьерри Мейсана дискуссия о существовании возможной военной ядерной программы у Ирана является всего лишь дымовой завесой. Великие державы прекратили передачу технологий Ирану с момента падения шаха, а Исламская Революция судила принцип атомной бомбы. Мнимые подозрения Запада являются просто уловкой, используемой для изоляции государства, которое ставит под вопрос военное и энергетическое доминирование ядерных держав и их право вето в Совете Соединенные Штаты будут пытаться по максимуму снизить свою зависимость от поставок нефти из-за рубежа и постепенно переходить на экологически чистую энергию
Соединенные Штаты будут пытаться по максимуму снизить свою зависимость от поставок нефти из-за рубежа и постепенно переходить на экологически чистую энергию Открытие значительных резервов газа в Восточном Средиземномье может потенциально оказаться нежданной благодатью для таких стран как Ливан и Израиль, бедных на минеральные ресурсы. Разумеется, лишь в случае, если за эти самые ресурсы между ними не вспыхнет новая война, указывает ближневосточные корреспонденты агентства АР Карун Демирчян и Басам Мроие в обширной аналитической статье.
Открытие значительных резервов газа в Восточном Средиземномье может потенциально оказаться нежданной благодатью для таких стран как Ливан и Израиль, бедных на минеральные ресурсы. Разумеется, лишь в случае, если за эти самые ресурсы между ними не вспыхнет новая война, указывает ближневосточные корреспонденты агентства АР Карун Демирчян и Басам Мроие в обширной аналитической статье.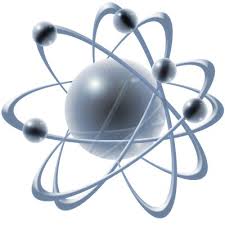 Почему арабские страны, не испытывающие недостатка в углеводородах, проявляют все большую заинтересованность в развитии ядерной энергетики?
Почему арабские страны, не испытывающие недостатка в углеводородах, проявляют все большую заинтересованность в развитии ядерной энергетики? В последние годы было принято говорить о России как о «великой энергетической державе». Казалось бы, этому статусу ничего не может угрожать. По итогам 2009 года Россия вышла на первое место в мире по добыче нефти (494 млн. тонн).
В последние годы было принято говорить о России как о «великой энергетической державе». Казалось бы, этому статусу ничего не может угрожать. По итогам 2009 года Россия вышла на первое место в мире по добыче нефти (494 млн. тонн). 2010 год стал «перекрестным» годом России и Франции. Сложившиеся на протяжении веков исторические связи двух стран должны в результате стать еще крепче и прочнее. Особенно это важно в энергетическом секторе, который имеет стратегическое значение для обеих сторон. 1 марта этого года по случаю 35-летия сотрудничества «Газпром» и GDF Suez подписали в присутствии Дмитрия Медведева и Николя Саркози протокол договора о поставках в будущем дополнительно 1,5 миллиарда кубометров газа в рамках проекта «Северный поток». Этот подводный трубопровод, строительство которого стартовало в апреле 2010 года, должен пройти из России в Европу по дну Балтийского моря. Вхождение GDF Suez в состав акционеров с 9% капитала было окончательно закреплено 1 июля в штаб-квартире Nord Stream AG в Цюрихе.
2010 год стал «перекрестным» годом России и Франции. Сложившиеся на протяжении веков исторические связи двух стран должны в результате стать еще крепче и прочнее. Особенно это важно в энергетическом секторе, который имеет стратегическое значение для обеих сторон. 1 марта этого года по случаю 35-летия сотрудничества «Газпром» и GDF Suez подписали в присутствии Дмитрия Медведева и Николя Саркози протокол договора о поставках в будущем дополнительно 1,5 миллиарда кубометров газа в рамках проекта «Северный поток». Этот подводный трубопровод, строительство которого стартовало в апреле 2010 года, должен пройти из России в Европу по дну Балтийского моря. Вхождение GDF Suez в состав акционеров с 9% капитала было окончательно закреплено 1 июля в штаб-квартире Nord Stream AG в Цюрихе. Африканские страны, имеющие запасы нефти и газа, уже привыкли слышать, что именно они являются будущем мировой добывающей индустрии, пишет Financial Times. Их месторождения менее разведаны, чем на Ближнем Востоке, их нефть, как правило, лучшего качества, чем в Латинской Америке, и они не намерены использовать свои нефтегазовые ресурсы в геополитической игре, как это делает Россия. Миллиарды долларов вложены в развитие глубоководных месторождений природного газа в Нигерии и Анголе. В ближайшие месяцы должна начаться добыча нефти на новых участках в Гане и Нигере. Однако в условиях, когда цена нефти примерно в три раза превышает среднее значение за предыдущие два десятилетия, правительств аафриканских стран начали реагировать на всплеск интереса из-за рубежа, все чаще задавая вопрос: «Что получим мы?».
Африканские страны, имеющие запасы нефти и газа, уже привыкли слышать, что именно они являются будущем мировой добывающей индустрии, пишет Financial Times. Их месторождения менее разведаны, чем на Ближнем Востоке, их нефть, как правило, лучшего качества, чем в Латинской Америке, и они не намерены использовать свои нефтегазовые ресурсы в геополитической игре, как это делает Россия. Миллиарды долларов вложены в развитие глубоководных месторождений природного газа в Нигерии и Анголе. В ближайшие месяцы должна начаться добыча нефти на новых участках в Гане и Нигере. Однако в условиях, когда цена нефти примерно в три раза превышает среднее значение за предыдущие два десятилетия, правительств аафриканских стран начали реагировать на всплеск интереса из-за рубежа, все чаще задавая вопрос: «Что получим мы?».